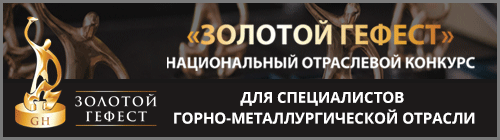Не нужно думать, что наши недра — это готовые мешки с золотом, которые кто-то может отнять.
Недавно разработчики Кодекса о недрах начали писать обновленную (с учетом комментариев и уточнений) версию документа. Юрист White & Case Kazakhstan Тимур Одилов, участвующий в разработке документа, согласился поделиться мыслями по отдельным положениям проекта Кодекса, а также рассказать, почему он будет принят на год позже запланированного.
— Тимур, когда принятие Кодекса было отложено (он планировался до конца 2016 года, а теперь переносится до конца следующего года — или, по крайней мере, до второй половины 2017 года), то сразу стало понятно, что перенос связан с Земельным кодексом и волнениями, которые были вызваны в связи с его принятием, и со страхами, которые есть у общества. О каких именно страхах в этом смысле можно говорить?
— Я не думаю, что дело только в страхах. Существуют и другие причины: Кодекс практически полностью меняет текущее регулирование недропользования, по крайней мере по твердым полезным ископаемым. Закон «О недрах» был основан на советском видении, на плановой экономике, когда государство было не только регулятором, но и само вело хозяйственную деятельность: этим объясняются предписания по количеству скважин, технологии бурения. Сейчас мы пытаемся внедрить принципы госрегулирования, которые существуют и в других странах. Масштаб проводимой реформы внушительный, отсюда и потребность в дополнительном времени.
По поводу страхов: не исключаю, что беспокойства, связанные с Земельным кодексом, повлияли. Важно сохранять здравомыслие в обсуждениях, чтобы документ избежал, по возможности, спекуляций, необходимо понимание назначения положений Кодекса — почему именно таким образом прописывается то или иное положение, какая цель преследуется, чего мы хотим избежать, что упростить.
— А что не понимают? Чего боятся?
— Возможно, несколько раздуты опасения по поводу принципа «первый пришел — первый получил». Думаю, это из-за непонимания. Мне кажется, существует страх того, что недра будут попросту розданы. Тут важно понять, что такое право недропользования. Недра не продаются и не предоставляются в собственность. Государство — это единственный собственник недр. Участки недр выделяются и предоставляются только в пользование.
— То есть, фактически, это аренда?
— Да, фактически, это аренда, если по-обывательски. Участки недр предоставляются на время и за плату. Плата взимается в виде налогов. Плюс вводятся арендные платежи.
— Прямая аренда.
— Да. Вне зависимости от того, добываете вы или нет, вы все равно удерживаете за собой какую-то часть недр. Поэтому придется уплачивать арендные платежи. Такой принцип существует не только в Казахстане. Так называемый rent fee во многих странах существует уже давно.
— Правильно ли понимаю, что этот арендный платеж будет действовать только в разведке?
— Нет, не только. Он будет действовать и в разведке, и в добыче. В разведке территория будет измеряться блоками, в зависимости от их количества и продолжительности разведки будет формироваться размер ежегодного арендного платежа. Что касается добычи, то блочной системы не будет, площадь добычного участка будет измеряться в квадратных километрах. В добыче размер арендного платежа будет зависеть только от территории участка.
— Понятно.
— Поэтому, если вернуться к теме страхов, то очевидно, что страх «придут иностранцы, и недра будут распроданы», безоснователен, такого не может быть именно потому, что недропользование — это только «на время».
— А боятся только иностранцев? Местных бизнесменов-недро- пользователей не боятся?
— Здесь тоже можно провести параллель с Земельным кодексом, когда высказывалось мнение, что у нас много своих латифундистов. Я думаю, что, во-первых, присутствует в целом страх того, что большие участки недр попадут в одни руки.
— Такая позиция — «пусть лучше неэффективный, но свой»—насколько широко распространена?
— Она присутствует больше на обывательском уровне, в рабочих группах я такого не замечал. Отдельный вопрос, кого считать «своим», если речь идет о крупном бизнесе и крупных бизнесменах: где они живут, где находится основная часть их имущества, наконец, где платят налоги. Вопрос иностранцев: да, существует некий страх присутствия большого количества граждан или бизнеса сопредельных государств.
— А чего больше боятся? Чужих граждан или того, что, мол, придет китайская или американская компания и наши деньги будет выводить к себе—за рубеж? И еще один страх: если в Казахстане будет найдено огромное месторождение, то почему им пользуются иностранцы? Это же «наши ресурсы».
— Во-первых, когда приходит инвестор, «наших» денег нет. Деньги его. Во-вторых, что значит «выводить»? Они, так сказать, «выводят» свои деньги. Те деньги, которые они вложили, заработали. Горное дело — бизнес, требующий очень больших вложений. Если государство желает избежать «вывода» капитала, пусть создает условия, побуждающие инвестора реинвестировать полученную прибыль. Опять же: инвестор вкладывает деньги, чтобы заработать. Все мы взрослые люди, живущие при капитализме, и должны это четко понимать.
— Даже у «взрослых людей» в головах есть мифы. Как кажется, по поводу инвестора их два. Первый— «инвестор, тот, кто должен вкладывать» (и государству и обществу уже неважно, будет ли он зарабатывать) — образ «дойной коровы». Второй — это «буржуй», про которого миф предполагает, что он будет экономить каждую копейку, держать всех в черном теле, а всю возможную прибыль забирать себе. Так?
— Не существует единого образа. Все инвесторы разные. Задача разработчиков Кодекса внимательно «прочертить линии»: неважно, для каких инвесторов, иностранных или местных, добросовестных или недобросовестных. Есть линия, которую переходить нельзя. Вот налоги, которые необходимо платить. Вот требования о местном содержании в работах или услугах, которые тоже надо выполнять. Вот требования об ограничении объема нарушения земель при разведке, требования о расходах на разведку и добычу, требования об обеспечении обязательств по ликвидации и т.д. Это условия государства, которые одинаковы для всех. А будет инвестор экономить каждую копейку или не будет — это вопрос его эффективности. Инвестор — это предприниматель, местный или зарубежный, который вкладывает свои деньги для того, чтобы найти месторождение, отработать его, заплатить налоги, заработать самому, за собой прибрать и уйти. И всё. Если будет возможность на другом участке сделать то же самое — пожалуйста. Образ «буржуя-грабителя» здесь неуместен. Инвестор заплатит столько налогов, сколько государство ему установит. И самое главное. С одной стороны, месторождение — это понятие геологическое, оно находится в недрах независимо от того, нашли мы его или нет. Однако с точки зрения возможности разработки, месторождение — понятие экономическое. Если оценка показала, что месторождение нерентабельно, значит для бизнеса его нет, и денег там нет. Поэтому не нужно думать, что наши недра — это готовые мешки с золотом, которые кто-то может отнять. Сначала нужно вложить деньги, оценить, подобрать технологию — только тогда можно говорить, что месторождение есть. А сейчас, когда говорят, что наша минерально-сырьевая база истощена, это значит, что мы не знаем, что у нас в недрах. Все, что нам было известно, заканчивается. Но если вложить деньги, то мы узнаем, есть ли у нас месторождения или нет. Так давайте это узнаем. А для этого мы должны пустить инвесторов, которые будут вкладывать деньги. Это разумная позиция. Есть и другой вариант: пусть, как в советское время, государство удерживает монополию, вкладывает деньги налогоплательщиков, проводя разведку и добычу самостоятельно. Но мы же сейчас не в такое время живем. Современная роль государства заключается не в том, чтобы вести свой бизнес, тратить деньги налогоплательщиков на него, а в том, чтобы выстроить правила игры, позволить предпринимателям осуществлять свою деятельность, взимать с них налоги, и эти налоги распределять среди своих граждан: создавать инфраструктуру, школы, систему здравоохранения — вот, наверное, современная роль государства.
— А у государства в новом Кодексе будут механизмы, чтобы пустить или не пустить того или иного недропользователя? Раньше говорили про «право вето» на сделки. Оно будет?
— Инструменты будут. Главный инструмент — отказ в выдаче лицензии или разрешения на переход права недропользования и объектов, связанных с этим правом (долей участия, акций) по мотивам национальной безопасности. Однако планируется установить ограниченный перечень случаев, когда он применяться не может. Скажем, при переходе с разведки на добычу отказать в выдаче добычной лицензии по мотивам нацбезопасности нельзя. Кроме того, с учетом сложных структур владения, предполагается, что разрешение на переход прав не надо получать, если не происходит смена контроля. Если появляется новое контролирующее лицо, такое разрешение обязательно. Порог контроля устанавливается на уровне 25%. Здесь мы последовали опыту Великобритании. Причем, критерием будет не только фактическое владение долями, но и получаемый доход, а также другие критерии. Например, если лицо владеет 5% акций, но получает 30% распределяемой прибыли, и оно продает свою долю, то разрешение тоже необходимо будет получить. Ясные критерии контроля позволят избежать расплывчатых формулировок вроде «лицо, имеющее возможность влиять».
— А приоритетное право?
— Его предполагается упразднить как минимум в сфере ТПИ. Здесь оно вроде бы никогда и не применялось. Это лишний институт, останется лишь инструмент разрешения на смену контроля, который представляется достаточно эффективным. Интересы нацкомпаний тут не пострадают, потому что они смогут предложить себя в качестве покупателей, если переход прав в конкретной ситуации не будет разрешен. Главное — не заиграться с мотивами нацбезопас- ности, иначе можно всех инвесторов распугать.
— Еще один вопрос о роли государства. Одна из опций контроля — это ГКЗ, функция которой — утверждать или не утверждать отчеты по разведке, ресурсам и запасам. Сохранится ли эта функция у ГКЗ в Кодексе или же разрешительный порядок будет заменен на уведомительный, а ведомство будет заниматься, скорее, статистической и архивной работой?
— Да, примерно так оно и будет. В ГКЗ и МКЗ недостаточно специалистов, а месторождения различные. Даже месторождения золота бывают разных геологических типов. А универсальных геологов, кажется, не бывает. И сказать, что один и тот же геолог может квалифицированно перепроверить отчет компании по разведке или по оценке запасов по любому полезному ископаемому (по золоту и, скажем, по титану или цирконию) — вряд ли возможно. Если бы в ГКЗ работало сто человек, и у каждого была бы своя специализация, тогда бы, наверное, это работало. В новом Кодексе предполагается, что ГКЗ остается только как структура, которая ведет учет ресурсов полезных ископаемых. Недропользователь, который провел разведку и желает перейти на этап добычи, сдает отчет компетентного лица о подсчете запасов, а ГКЗ вводит данные отчета в свою базу. ГКЗ не будет утверждать отчеты, подписывать их будет компетентное лицо — член саморегулируемой организации, включенной в состав CRIRSCO.
— Если вернуться к страху того, что придет какая-то компания и получит в пользование большой участок: каков будет предельный размер участка «в одни руки» и что считать такими «одними руками», ведь один учредитель может владеть двумя компаниями, которые возьмут на себя две смежные большие лицензии?
— «Одни руки» — это одно лицо, непосредственный обладатель права недропользования. В действительности, практически невозможно проконтролировать, чтобы конечный бенефициар через вереницу промежуточных компаний совместно с другими лицами не превысил определенный порог владения или получения дохода от недропользования в какой-либо стране. Тем более, если получение дохода осуществляется через публичную компанию с множеством акционеров. Представьте, что лицо владеет разным количеством акций в разных, не связанных между собой компаниях, в том числе публичных, каждая из которых прямо или косвенно отдельно контролирует или не контролирует недропользователя. Как тут рассчитать порог «одних рук»? Поверьте, можно создать такую структуру владения, что никакие правила «одних рук» не будут применимы. По предельному размеру участка мы просто переняли опыт Австралии. У них 200 блоков на одну лицензию. Правда, размер минутного блока в Австралии не такой, как в Казахстане. В Австралии средний размер блока — около 3 кв. километров. В Казахстане средний размер блока — 1,8-2,2 кв. километров. 200 блоков — это около 400 кв. километров — тот максимум, который может быть предоставлен по одной лицензии на разведку.
— А количество самих лицензий не ограничено?
— Нет. Не имеет смысла. Если существует альтернативное мнение, его необходимо обосновать (смеется).
— А по добычным лицензиям?
— Тут всё проще. Размер территории, предоставляемой для добычи твердых полезных ископаемых, будет соответствовать размеру оконтуренного месторождения — так, чтобы оно полностью умещалось на этой территории. Сама же она должна иметь форму прямоугольника. Эту норму мы тоже позаимствовали из австралийского законодательства, чтобы избежать сложностей и споров относительно границ участков. Если потребуется больше территории, то необходимо будет оформлять земельный участок в общем порядке и уже тогда размещать на нем свои мощности.
— Понятно, спасибо. Еще вопрос — про наложение лицензий. Лицензии будут выдаваться «на территорию» или «на полезное ископаемое»? Не возникнет ли ситуация, когда одна компания берет участок с координатами ABCD на уголь, а другая — тот же участок, но на золото?
— Нет, такое невозможно, участок будет предоставляться «на территорию». Наложение участков будет возможно между участками по углеводородам и ТПИ, но никак не между участками ТПИ. Иначе утрачивается идея исключительности. В то же время будет предусмотрена приоритетность в ведении работ на общем для УВС и ТПИ участке. Приоритетность будет зависеть от времени предоставления участка, способа предоставления: через конкурс или по первой заявке, а также вида операций: разведка или добыча. Теперь вернемся к вопросу «уголь или золото». В лицензии конкретные виды полезных ископаемых указаны не будут. МИР стремится создать условия для возникновения юниоров — небольших компаний, чья основная задача — найти любое месторождение и продать права на его разработку другим. Они не знают, что найдут. Выдавать им лицензию на разведку именно золота лишено всякого смысла — а вдруг они найдут уголь или медь? Раньше контракты на разведку заключались на основе уже существующей геологической информации, поэтому и указывался конкретный вид полезного ископаемого.
— На разведку понятно. А на добычу?
— Тоже нет смысла. Смотрите: в отчете компетентного лица будут указаны те полезные ископаемые, которые будут составлять экономику этого месторождения. В плане горных работ будут указаны полезные ископаемые, которые предполагается добывать. Но если придется добывать попутные полезные ископаемые — получается, их добыча будет незаконной? Нелогично. Пусть добывают, но платят налоги. Справедливости ради замечу, что попутные компоненты попутным рознь. Одни представляют коммерческую ценность, другие — нет. Наверное, исходя из этого, необходимо и начислять налоги.
— Понятно. Но проблема может быть и обратная: раньше в документах на недропользование прописывалось всё, и было обязательство добывать всё. Допустим, на медно-молибденовом месторождении выгодно извлекать медь, но невыгодно — молибден. Но по лицензии недропользователь обязан добывать и медь, и молибден, причем, в четко оговоренных количествах, за отклонения положены штрафы. Будут ли в Кодексе оговорены обязательства добывать все учтенные полезные ископаемые, соблюдая комплексность и полноту извлечения? Это, кстати, тоже страх — «закапывать в отвалы народное достояние».
— Такие обязательства не предполагаются. Недропользователь сам решает, какие полезные ископаемые добывать, и когда он будет их продавать. Если добывать невыгодно, то руда может быть заскладирована и продана позже. Если не удастся продать вовсе, она останется на участке в виде отвалов и снова отойдет к «недрам» при прекращении лицензии. Этот вопрос, кстати, связан и с налогообложением: в Австралии, например, вы платите роялти с того, что вы продали, а не добыли. Только по некоторым видам полезных ископаемых роялти уплачивается с момента добычи. Например, если рыночная ситуация плохая, вы руду добываете, но продукт не продаете, а налоги платите уже с проданного сырья.
— Такая же система будет и в Казахстане?
— Этот вопрос сейчас решается. МИР предлагает такую систему — она разумнее. У фискальных органов, в Миннацэкономики другая точка зрения: они считают, что недропользователь должен платить налоги по факту добычи независимо от того, получил ли он прибыль от этого товара или нет. Такая позиция приводит к тому, что недропользователь вынужден уплачивать налог тогда, когда прибыль с продажи он еще не получил, у него не хватает оборотных средств, он берет кредиты, обрастает ими, экономическое положение его ухудшается, он не может полноценно работать и развиваться.
— Как будут регламентироваться отношения между недропользователями и владельцами земельных участков? В Кодексе было прописано, что право собственности на землю дает право недропользования.
— Существует определенный правовой пробел в части использования пространства недр собственниками земельных участков и землепользователями. Речь идет о подземных частях зданий и сооружений или полностью подземных сооружениях. Рассматривается следующая концепция: землевладельцы будут вправе пользоваться пространством недр для размещения гаражей, паркингов и т.п. Также они смогут добывать базовые строительные материалы на своем участке (гальку, песок, глину) для личных надобностей — строительство дома, иных сооружений, но не для продажи. Этим их право пользования и заканчивается. Оформлять право пользования недрами отдельно не потребуется. Достаточно быть землевладельцем. Данный подход мы недавно обсуждали с профессором Ильясовой К. М.
— Как будут урегулированы отношения недропользователей и владельцев земельных участков — особенно, когда речь идет о больших участках и открытой добыче?
— Этот вопрос, прежде всего, следует задать государству: будет ли отдан приоритет недропользователям, если так, придется прописывать процедуры, позволяющие принудить собственника земли передать земли недропользователю, — или нет.
— Даже приоритет может быть отрегулирован по-разному. В Турции есть механизм принуждения землепользователя через суд. А вот в некоторых провинциях Канады, если недропользователь не договаривается с собственником земли, рудника не будет — и такие случаи действительно были.
— Правительства отдельных стран сами определяют для себя, что важнее — права собственника земли или права недропользователя. В Канаде и в Австралии необходимо согласие собственника. В Чили примерно как в Турции. В Казахстане, судя по мнениям, которые высказываются в рабочих группах, пока выбран путь Австралии. Однако проблема в том, что недропользователи сталкиваются со спекуляциями: недропользователь получает лицензию и вдруг обнаруживает, что буквально недавно земельный участок был предоставлен третьему лицу, с которым приходится договариваться и нести дополнительные издержки. Институт резервирования при внедрении принципа «первый пришел» не поможет. Если государство всё же начнет рассматривать приоритетность недропользования, необходимо быть очень и очень осторожным в этом непростом вопросе.
«Курсивъ» Ирина Дорохова